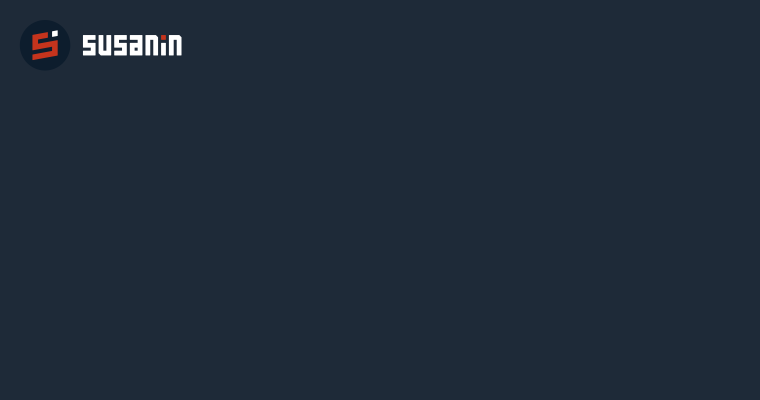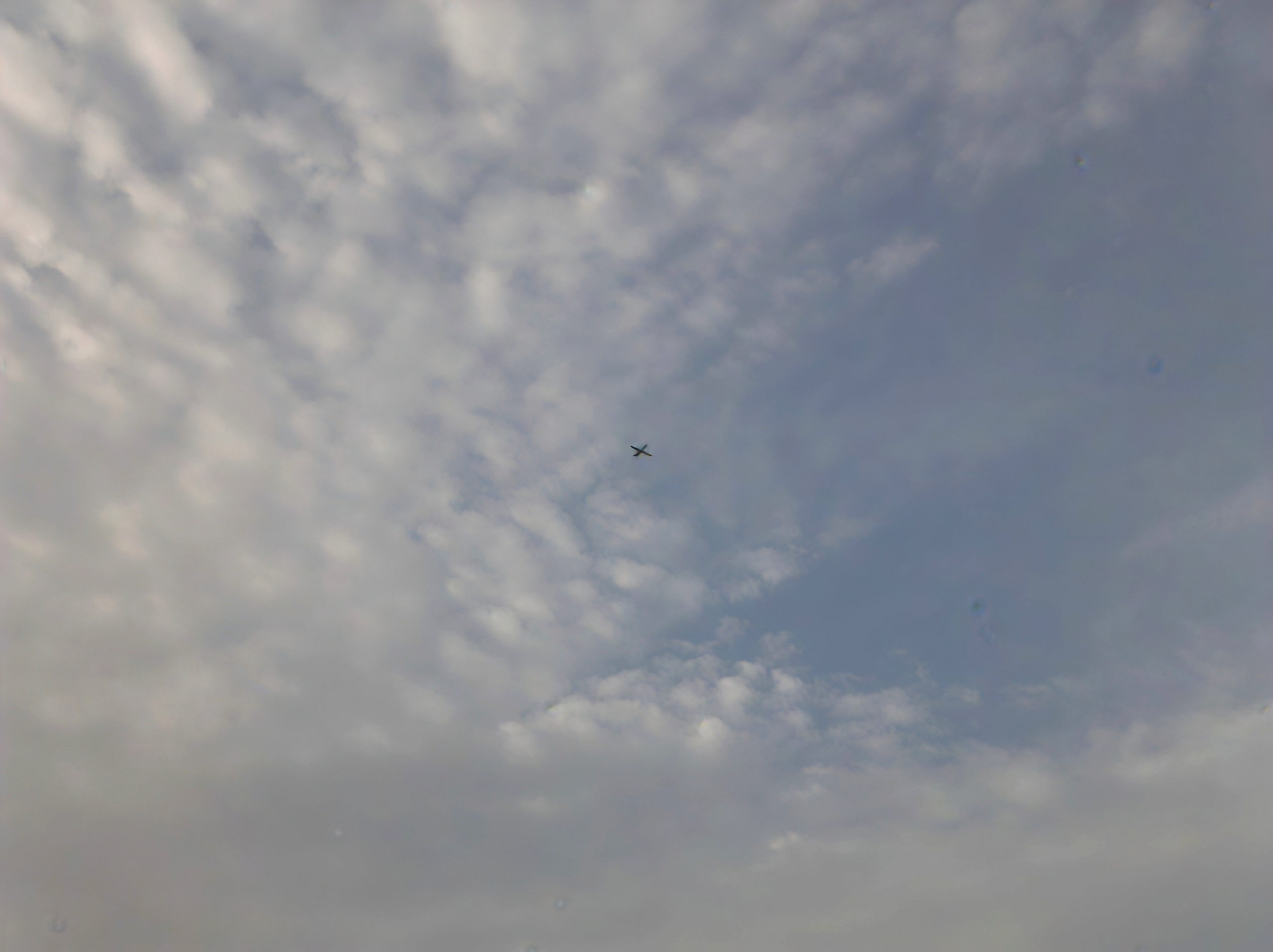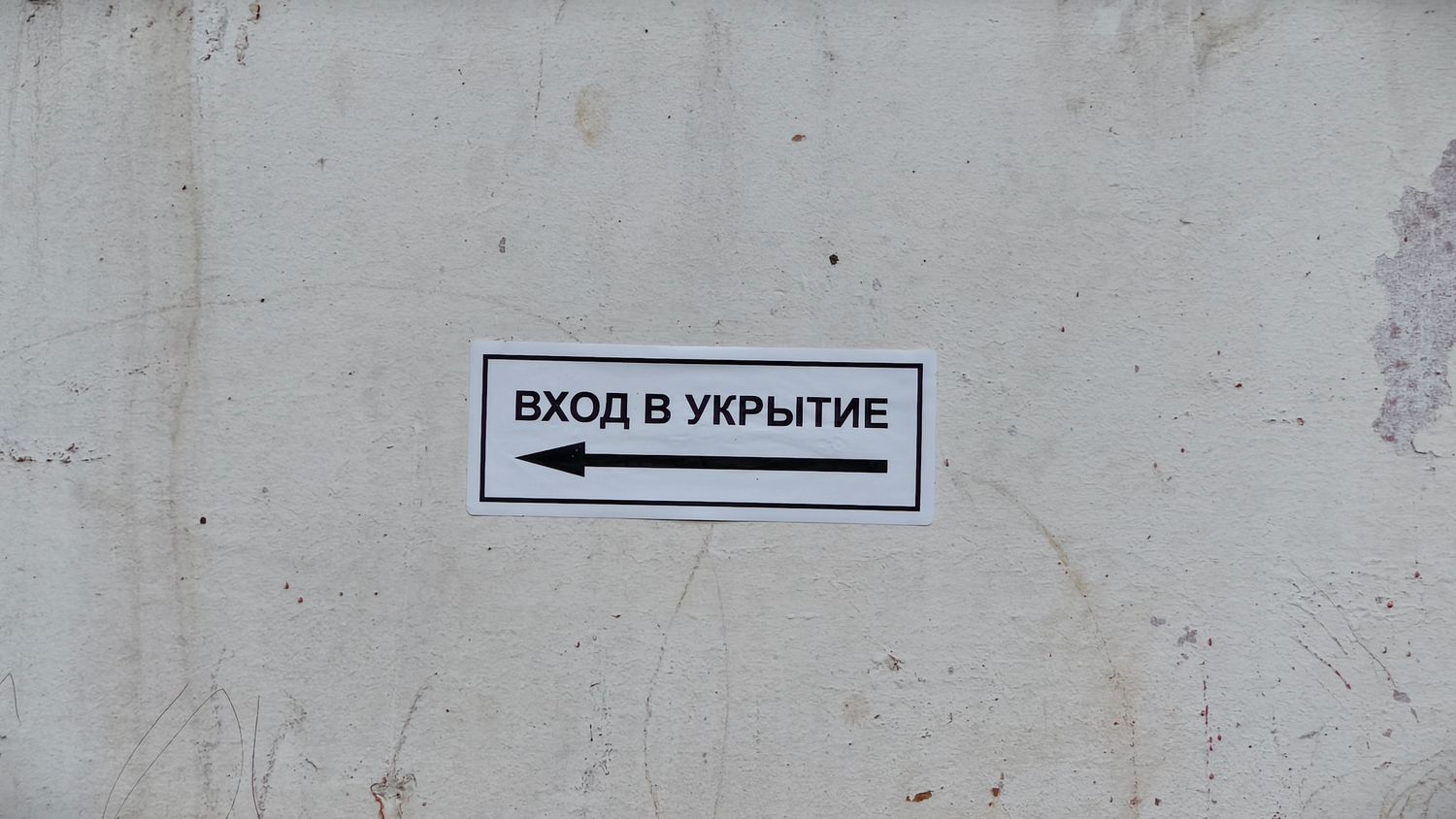Еще в середине лета в федеральную информационную повестку не особо заметно попала тема разработки законопроекта, направленного на развитие адвокатуры и профессионализацию на её основе судебного представительства. Проект федерального закона называется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это мало говорящее название журналисты упрощенно окрестили законом «адвокатской монополии».
Вкратце, адвокатская монополия — это на законодательном уровне закрепленное право адвокатов, состоящих в адвокатской палате, на оказание юридической помощи в судах. На данный момент это правило действует в уголовном судопроизводстве РФ. Защитником по уголовному делу может быть только адвокат, имеющий ордер, за исключением дел, которые рассматривают мировые судьи. Новый законопроект предполагает заметно более широкое присутствие адвокатов и в пространстве гражданского судопроизводства. Инициатива исходит от государства в лице Министерства юстиции РФ.
Лагерь сторонников принятия законопроекта приводит в поддержку свои аргументы. В первую очередь они обращают внимание на законодательное ограничение для недобросовестных юристов, а точнее говоря, псевдоюристов, которые попросту выманивают деньги у подзащитных. Надо отметить, со слов опрошенных адвокатов случаи мошеннических действий нередки на рынке юридических услуг. Соответственно, от нововведения ожидают повышения качества при отстаивании интересов граждан в судах, так как в легальном поле судебной практики останутся только подтвердившие экзаменом высокий профессиональный уровень специалисты.
С другой стороны, противники законопроекта говорят о монополизации рынка в части ограничения конкуренции и в связи с этим указывают на возможный рост стоимости услуг адвоката. К примеру, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявляет, что законопроект содержит риски. Он считает, что «адвокатская монополия» в гражданском праве — неприемлема. Также поговаривают про усиление контроля со стороны Министерства юстиции через адвокатские палаты на местах, что может лишить независимости адвокатуру как отдельный институт права.
«Сусанин» собрал, что называется, мнения заинтересованных сторон. Мы обратились в Адвокатскую палату Удмуртии, Министерство юстиции по Удмуртской Республике, к действующему адвокату и к частному практикующему юристу. Из органа власти и адвокатского союза поступили весьма казенные ответы. Частные лица порассуждали на эту тему более свободно. Что из этого получилось — судить (читать) Вам.

Сусанин: Будучи адвокатом, как Вы смотрите на рассматриваемый законопроект?
Адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Старинский и партнеры» Дмитрий Походин:
Я вижу в нем шаг в сторону профессионализации судебного представительства как неотъемлемой части рынка юридических услуг. Судебный процесс — это совсем не про бюрократию. Здесь разрешаются крайне чувствительные для любого человека споры: трудовые, жилищные, имущественные, семейные. Зачастую, ставки слишком высоки, чтобы человек доверял свое дело неподготовленному юристу. Этой же логике подчинено, к примеру, требование закона об осуществлении защиты обвиняемых по уголовным делам только адвокатами, что никогда не вызывало критику юристов и не обзывалось «адвокатской монополией». В большинстве развитых юрисдикций судебное представительство — зона адвокатуры, мы лишь догоняем международный стандарт.
Сейчас же в суд может выйти любой юрист и у клиента нет никаких гарантий качества работы своего представителя. Адвокат, в свою очередь, связан требованиями закона и профессиональными стандартами, его профессиональная ответственность застрахована.
При этом я вовсе не хочу сказать, что выпускники вуза или все практикующие юристы не обладают достаточной квалификацией, как и, напротив, что каждый адвокат имеет такую квалификацию. Речь о том, что адвокат, актуальность знаний которого проверена на момент приобретения статуса и пока сохраняется его статус, помещен в правовой режим, который обязывает его непрерывно повышать свою квалификацию, придерживаться профессиональных и этических стандартов, установленных корпорацией, с соответствующим контролем и ответственностью. Обеспечить такой же режим любому свободному обладателю диплома о высшем юридическом образовании попросту невозможно по причине отсутствия какого-либо механизма контроля.
Ключевое обещание реформы — не ограничить доступ к правосудию, а обеспечить его качество. Это — социальный аргумент, но никак не про корпоративный интерес. И самый главный плюс для доверителей.
Действительно ли так необходимо каждому «судебному» юристу получать такой статус?
Далеко не каждому. Подчеркну, что предлагаемые изменения касаются только судебного представительства и не регулируют вопросы и потребности юридического консалтинга, в котором задействовано достаточно большое количество специалистов.
Что касается участия в судах, то новеллы сохраняют за человеком право самому представлять свои интересы. Также изменения не затронут законных представителей (близких родственников), представителей органов государственной власти и местного самоуправления, in-house юристов, арбитражных управляющих, патентных поверенных и других лиц, чью деятельность регулирует специальное законодательство. Все они смогут выступать судебными представителями без статуса адвоката. Наряду с этим, поправки не распространяются на споры, которые рассматривают мировые судьи, и на дела об административных правонарушениях.
С одной стороны, законопроект направлен в целом в пользу адвокатского сообщества (меньше конкурентов), а каковы возможные риски?
Не могу согласиться с таким обоснованием (про конкуренцию). Никакой монополизации рынка не произойдет: адвокатов в стране и так свыше 75 000. Какая монополия при таком числе самостоятельных игроков? В данном случае речь идет об определенном едином регулировании — об объединении адвокатов, которые даже гипотетически не смогут вести никакой согласованной политики на рынке юридических услуг. Это — эволюция рынка, а не война «цехов».
Тем не менее, риски действительно есть, и важно обсуждать их открыто. Главный — это доступность. В небольших городах и районах адвокатов объективно мало, люди рискуют остаться без представителя. Здесь важно предусмотреть достаточный переходный период и заранее выстроить понятные мостики для опытных судебных юристов, обеспечив их плавный переход в корпорацию.
Второй риск — стоимость. Люди боятся, что юридические услуги подорожают. Опасение справедливое, но здесь многое зависит от того, как государство выстроит системы бесплатной юридической помощи и оплаты труда адвокатов по назначению. Кроме того, президент ФПА Светлана Володина прямо сказала: «Правило первое — умеренность в гонорарах. Мы ему следуем сами и передаем новым поколениям». Это важный сигнал обществу: адвокатура понимает, что цена не должна стать препятствием для получения гражданами профессиональной юридической помощи.
Третий риск — независимость. В законопроекте есть положения, которые позволяют Минюсту вмешиваться в дисциплинарные механизмы адвокатских палат. Для нас это «красная линия». Если чиновник сможет оспаривать решения адвокатской палаты, то адвокат будет работать не только для клиента, но и оглядываться на государственный орган. А это недопустимо. Мы бережем свою независимость, отстаиваем ее как фундаментальную ценность профессии. Именно она обеспечивает реальную защиту прав человека в суде.
Таким образом, риски есть, но все они управляемые. Их решение требует тонкой настройки с учетом результатов широкого профессионального и общественного обсуждения.
Поделитесь, насколько сложно сдавать экзамен, дающий адвокатский статус?
Экзамен серьезный, но честный. Сначала компьютерный тест — случайная выборка 90 из 353 вопросов, касающихся адвокатской деятельности. Тест проводится на специальном программном оборудовании, исключающим возможность постороннего вмешательства, и считается пройденным при даче не менее 80 правильных ответов. Далее устное собеседование с членами Квалификационной комиссии адвокатской палаты, в которую, наряду с действующими адвокатами, входят преподаватели вузов, судьи, представители Минюста и органов законодательной власти. Собеседование проводится по билетам, каждый из которых содержит вопросы из уголовного, гражданского, административного и процессуального права.
Готовиться нужно основательно. Но экзамен — это не «тайный ритуал», а достаточно транспарентная процедура, объективная проверка знаний кандидата и, как следствие, его готовности профессионально отстаивать права и интересы граждан.

Сусанин: Насколько адвокатское сообщество заинтересовано в институте «адвокатской монополии», по Вашему мнению?
Частнопрактикующий юрист Владимир Крюков:
Судя по тому, что разговоры об адвокатской монополии идут уже не один год, а законопроект вынесен не адвокатурой, а, наоборот, государством, в лице Минюста, то можно сделать вывод: адвокатское сообщество вполне устраивает текущее положение дел. Адвокат — он в уголовных делах, а в гражданских и арбитражных представителю необходимо и достаточно юридического образования.
Если вчитаться в новостное сообщение Минюста, то возникнут вопросы. «Необходимость изменений обусловлена тем, что на сегодняшний день значительная доля юридических услуг оказывается гражданами и организациями, чьи этические и профессиональные стандарты деятельности не установлены законодательством. Особые риски связаны с деятельностью неквалифицированных и недобросовестных судебных представителей, что может негативно сказаться на защите прав граждан и качестве судопроизводства». Странный тезис. Сейчас все процессуальные кодексы содержат нормы о том, что судебный представитель должен иметь высшее юридическое образование! И Гражданский процессуальный кодекс (ГПК), и Арбитражный процессуальный кодекс (АПК), и Кодекс административного судопроизводства (КАС) — всё то, что не связано с «уголовкой». По Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) защитник — только адвокат. И это нормально, не вызывает вопросов. Вызывает вопрос, почему Минюст считает «неквалифицированными» судебных представителей, которые обязаны по закону предъявлять диплом о высшем юридическом образовании? А «недобросовестным» может быть кто угодно: и юрист с удостоверением адвоката, и юрист без оного.
Меня на юрфаке УдГУ учили, что «юрист — это процессуалист. А если ты не процессуалист, то ты и не юрист». Считаю это правильным. Это означает, что юрист, по базовому уровню даже, может прийти в суд и вести дело, потому что должен знать не только материальное, но и процессуальное право. Если ты действительно учился на юриста, то уже с курса третьего сможешь браться за несложные дела. Вот о чём речь.
Извините, если «...на сегодняшний день значительная доля юридических услуг оказывается гражданами и организациями, чьи этические и профессиональные стандарты деятельности не установлены законодательством», то это что значит? Это значит, что значительная доля граждан предпочитают обращаться не к адвокатам? Следующий вопрос: а почему не к адвокатам? Ведь у них и «этические и профессиональные стандарты деятельности» установлены законодательством! Может быть, значительной доле граждан это не так и важно? Может быть, адвокат просто дороже, чем простой «частнопрактикующий» юрист? Почему тут не решает рынок? К кому гражданин, ИП, организация хотят, к тому и обращаются за помощью в суде, разве нет? Почему их нужно ограничивать адвокатами и родственниками? Монополия в сфере услуг — это же, вроде как, не хорошо. С этим государство борется. Есть закон о защите конкуренции… И тут — адвокатская монополия...
И почему Минюст озаботился именно сейчас «защитой прав граждан»? Ведь до сего момента представителями в суде, которыми «... могут быть адвокаты и иные лица.... имеющие высшее юридическое образование...» (цитирую ст. 55 КАС РФ, например) не нарушались массово и повсеместно эти права... И «качество судопроизводства» не страдало… Может быть, из судов поступали массовые обращения на тему «избавьте нас от этих бездарных, бестолковых юристов без адвокатских удостоверений»?
Какие предложения не учтены в проекте закона? Какие поправки Вы бы предложили в рамках общественного обсуждения законопроекта?
Кстати, там есть исключения для близких родственников (но, почему-то, не для супругов). А там, где есть исключения, их круг можно расширить максимально. Может быть, пойдут этим путём — расширяя круг исключений.
Есть ли у адвокатов примеры некачественной или слабой профессиональной работы юристов (не являющихся адвокатами), оказывающих услуги защиты в суде? Наверняка, есть. Но и обратные примеры есть тоже, наверное. Неужели и вправду нужно думать, что, вот, Минюст введёт адвокатскую монополию и всё в судах станет, перефразируя источник, «качественно и сильно профессионально»? Сейчас, грубо говоря, есть 3 варианта исхода дела, можно представить, что:
1) Юрист проиграл адвокату. Какой из этого вывод? Если следовать позиции Минюста, наверное, такой: «всё правильно, адвокатура рулит, очевидно, не адвокат — не профессионал». Так, что ли?!
2) Адвокат проиграл юристу. «Не может быть! Тут дело не чисто!». Так?
3) Юрист проиграл юристу. Судя по комментарию, сопровождающему законопроект, это наиболее массовая ситуация. Недопустимая???
Ну, а в будущем нас ждет единственный вариант: «Адвокат проиграл адвокату». И как с этим жить? И кто же здесь некачественные услуги предоставил, а кто слаб профессионально?
Следует иметь в виду, что в суде главный субъект — это судья. Именно он (или в определенных ситуациях коллегия из 3-х судей) принимает решение по делу. Представитель стороны по делу, будь он адвокат или «иное лицо», — это субъект, содействующий осуществлению правосудия и оказывающий стороне правовую помощь (юридические услуги) по вопросам материального права, фактических обстоятельств дела и процессуальным (процедурным) вопросам. А суд имеет определенные средства воздействия на стороны. Может быть, имеет смысл пойти по пути их расширения?
Усилится ли с принятием данного законопроекта влияние государственных контрольных органов (Министерства юстиции, например) на работу адвокатских палат?
Думаю, да. Монополия — это же не только навязывание своей воли рынку, но и связь, и взаимозависимость с государством. С другой стороны, независимость, о которой говорится в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности», вещь не абсолютная, а относительная.
Для полноты картины «Сусанин» обратился за разъяснениями к официальным лицам.
Руководитель Управления Минюста РФ по Удмуртской Республике Леонид Перескоков:
— Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлен на развитие адвокатуры и профессионализацию на ее основе судебного представительства, а также на создание условий для консолидации юридической профессии. Законопроектом предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», а также в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», согласно которым представлять интересы граждан и организаций в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями, по гражданским и административным делам по общему правилу смогут только адвокаты.
Подготовленный Министерством юстиции России законопроект предусматривает, в частности, существенное сокращение сроков ответа на адвокатский запрос и его возможного продления.
В целях комфортного перехода практикующих юристов в адвокатуру законопроектом устанавливается отлагательный срок вступления в силу его положений, регулирующих вопросы судебного представительства — 1 января 2028 года, до наступления которого юристы смогут подготовиться, сдать квалификационный экзамен и получить статус адвоката. Также в вышеуказанных целях продлевается срок принесения присяги адвоката после успешной сдачи экзамена, закрепляется порядок определения на федеральном уровне предельного размера вступительных взносов, смягчаются требования к учреждению адвокатских образований.
До 1 января 2028 года судебное представительство будет осуществляться в соответствии с действующими нормами законодательства. При этом предлагаемыми изменениями не будет затронуто право граждан лично представлять свои интересы или выступать законными представителями третьих лиц, а также право, при наличии высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности, на представление интересов близких родственников или работодателей.
Требование к наличию у судебного представителя статуса адвоката также не будет распространяться на представителей отдельных профессий, деятельность которых урегулирована отраслевым законодательством, в частности, на патентных поверенных, арбитражных управляющих, сотрудников государственных юридических бюро и иных лиц.
Важным механизмом учета общественного мнения при законотворческой работе является процедура общественного обсуждения законопроекта. Поступающие замечания, зачастую, содержат предметные и содержательные предложения, которые будут проработаны с согласующими ведомствами и могут быть учтены при доработке законопроекта. Результаты рассмотрения таких замечаний будут размещены на портале regulation.gov.ru
Своим видением поделилась и президент Адвокатской палаты Удмуртской Республики Людмила Лямина.
Сусанин: Насколько адвокатское сообщество заинтересовано в институте «адвокатской монополии», по Вашему мнению?
— Полагаю, что надлежащая реализация конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь возможна в тех профессиональных сообществах, где действуют четко регламентированные профессиональные стандарты, этические правила, предусмотрены обязательные требования по постоянному совершенствованию профессиональных знаний, используются понятные и прозрачные процедуры мер дисциплинарного воздействия. На протяжении длительного времени адвокатское сообщество обращало внимание на важность консолидации юридической профессии на базе адвокатуры. Полагаю, что объединение юридической профессии на базе адвокатуры приведет к повышению уровня защиты прав граждан.
Какие предложения не учтены в проекте закона? Какие поправки Вы бы предложили в рамках общественного обсуждения законопроекта?
— Все предложения и замечания, которые имеются в настоящий момент у региональных адвокатских палат, в том числе и нашей палаты, были направлены в Федеральную палату адвокатов Российской Федерации, проанализированы и по итогам обсуждения от адвокатского сообщества России в лице Федеральной палаты адвокатов РФ высказаны в ходе общественных обсуждений. Об этом подробно изложено в новостной ленте официального сайта ФПА РФ.
Усилится ли с принятием данного законопроекта влияние государственных контрольных органов (Минюста, например) на работу адвокатских палат?
— Объем полномочий органов юстиции и ФПА РФ в предлагаемых законопроектом изменениях расширяется. Как эти полномочия будут реализовываться в случае принятия предлагаемых изменений, покажет практика.
Пока данный законопроект находится в стадии обсуждения. Продолжение следует...
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX